История астрономии. Выход за пределы Солнечной системы. Межзвездные расстояния
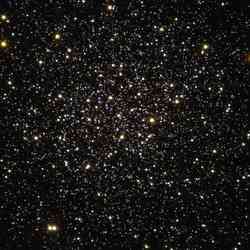
В то время как существование упорядоченной планетной системы уже в XVII в. из ранга гипотез перешло в ранг доказанных фактов, мир звезд оставался целиком загадочным. Даже гениальный Кеплер предполагал, что все звезды сосредоточены в тонком сферическом слое вокруг Солнца, допуская даже, что этот слой состоит из твердого прозрачного вещества вроде льда... Хотя в другом месте Кеплер высказал мысль о... рождении звезд из тонкой материи Млечного Пути. Мы видели, что колоссальная протяженность и сложность звездного мира впервые проглянули сквозь телескоп Галилея, но и его основное внимание было поглощено проблемой планетной системы — гелиоцентризма. К тому же для детального изучения мира звезд нужна была еще целая эпоха развития самих телескопов. В отличие от единолично создававшихся фундаментальных направляющих идей, создание фактического, наблюдательного фундамента для их возникновения с развитием астрономии становилось делом все более коллективным. Умозрительная картина бесконечно удаленной сферы звезд, неподвижно закрепленных на этой сфере, уже не удовлетворяла исследователей неба второй половины XVII — начала XVIII вв. Предпринимавшиеся в течение всей истории астрономии, особенно в период утверждения гелиоцентризма, попытки измерения звездных параллаксов оставались безрезультатными до первой трети XIX в. Открытие Кеплером закона ослабления силы света с расстоянием (~ 1/r2) и измерение О. Ремером в 1676 г. скорости света позволили сделать первые фотометрические оценки удаленности звезд. Великий голландский физик и астроном, теоретик и виртуозный экспериментатор Христиан Гюйгенс (1629—1695) в своем (лишь посмертно опубликованном в 1698 г.) сочинении «Космотеорос» как завещание оставил астрономам наступавшего XVIII в., первый результат такой оценки, сделанной из сравнения блеска Солнца и Сириуса. Опиравшийся на надежную физическую основу, он поражал открывшейся впервые величиной межзвездных расстояний: луч света, пролетавший в 1 секунду около 300 тысяч километров, шел. от Сириуса до нас несколько лет! Подобная оценка с более близким к современным данным результатом (8 световых лет) была сделана снова в 1761 г. И. Ламбертом. Вторым существенным вкладом в фундамент будущей картины звездного мира стало открытие выдающимся английским астрономом Эдмундом Галлеем (1656—1742) собственного движения у звезд. Чтобы уточнить постоянную прецессии, Галлей сравнил координаты звезд в современном ему каталоге с измерениями Гиппарха и еще более ранними — Аристилла и Тимохариса (III в. до н. э.), приведенными в «Альмагесте» Птолемея. Помимо ожидаемых смещений всех звезд по долготе за счет прецессии, он отметил также известные уже в его время систематические смещения звезд по широте за счет изменения наклона экватора к эклиптике. «Однако три звезды: Палилисиум, или Глаз Тельца [Альдебаран], Сириус и Арктур,— писал он в статье 1718 г.,— прямо противоречили этому правилу». Широты названных звезд изменились «против правила» на десятки угловых минут! Сравнив для контроля положения тех же звезд, измеренные европейцами в IV и VI вв., Галлей сделал окончательный вывод о существовании реальных перемещений так называемых «неподвижных» звезд. Окончательно это открытие было признано в 70-е годы XVIII в., после того как Т. Майер и Н. Маскелин измерили собственные движения у десятков звезд. Но уже в первой половине XVIII в. еще при жизни Галлея это открытие было использовано другим его соотечественником Т. Райтом для построения модели звездного мира в виде совокупности островных вселенных. В первые десятилетия XVIII в. в поле зрения астрономов стали все более настойчиво вторгаться новые таинственные объекты — туманности. Несколько их было отмечено еще Птолемеем, который называл их «туманными звездами». Часть их уже Галилей разложил на звезды. Несколько туманностей отметил в XVII в. Я. Гевелий (1611-1687). Для дальнейшего развития астрономической картины мира исключительно важным было и то, что Галлей привлек впервые внимание астрономов к туманностям как особым самосветящимся космическим образованиям, играющим, по-видимому, существенную роль в структуре Вселенной. В статье 1715 г., посвященной этому вопросу, оспаривая мнение некоторых астрономов о том, что самосветящимися могут быть лишь «солнца» (т. е. звезды), Галлей описал шесть таких туманностей. Они были открыты (или переоткрыты) разными наблюдателями, начиная со второй половины XVII в. в различных созвездиях или их частях (астеризмах): в Мече Ориона, Поясе Андромеды, в Стрельце, Центавре (отмечена еще Птолемеем и переоткрыта в 1677 г. Галлеем), в Антиное (ныне часть созвездия Орла) и в Геркулесе (открыта в 1714 г. Галлеем).

Галлей заключил, что таких объектов во Вселенной «без сомнения» много больше, а поскольку они не имеют заметных годичных параллаксов (т. е. очень далеки от нас), то «они не могут не занимать огромных пространств». Размер туманных пятен, как писал Галлей, «быть может, не меньше, чем вся наша Солнечная система», и потому они представляют, добавлял он, чрезвычайно богатый материал для размышлений естествоиспытателям и особенно астрономам. Активным пропагандистом исследований туманностей выступил современник Галлея, английский теолог и естествоиспытатель Вильям Дерхэм (или, правильнее: Дарем, 1657—1735). Наиболее интересна с точки зрения дальнейшего развития, астрономической картины мира его небольшая последняя статья «Наблюдения среди неподвижных звезд явлений, называемых туманными звездами» (1733). Эти объекты он наблюдал с помощью 8-футового рефлектора и сообщил о них членам Лондонского королевского общества, «чтобы побудить других к дальнейшим наблюдениям этих объектов», так как считал, «что в них имеется намного более достойного тщательного исследования, чем думали до сих пор». Рассуждая о природе «туманных звезд», Дерхэм, в отличие от Галлея, пришел к заключению, что они не могут быть единичными телами, самосветящимися или отражающими свет, вроде Солнца, звезд или планет. Вместе с тем крайне слабое, нежное, совершенно однородное беловатое слияние туманностей даже при наблюдении в его не малый по тем временам телескоп не позволило ему допустить их сходство с Млечным Путем, звездный состав которого был известен со времен Галилея.

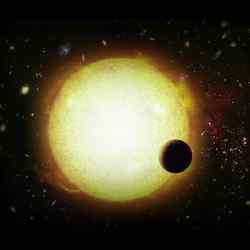
Вид этих «беловатых областей» наводил Дерхэма на мысль о скоплении «легких паров» в мировом пространстве (что оказалось справедливым лишь в отношении также наблюдавшейся им туманности Ориона). Дерхэм первым обратил внимание и на то, что таких «туманных звезд... много разбросано в разных частях неба». Это свидетельствовало о типичности явления для картины Вселенной. Чтобы помочь тем, кто пожелает исследовать их, он составил, по-видимому, наиболее ранний «каталог туманных звезд», в котором впервые указал и координаты объектов на 1600 г. (? и ?, правда, с неправдоподобно завышенной точностью — до 1"). Сами объекты он почерпнул, по его словам, из сочинения Гевелия «Предвестник астрономии». В каталог Дерхэма вошли 16 туманностей (одна в Поясе Андромеды, четыре в Козероге, две в Лебеде, три в Геркулесе, одна в Пегасе, по одной в созвездиях Щита, Весов и Большой Медведицы и две в Скорпионе). Кроме того, Дерхэм перечислил и шесть туманностей, описанных Галлеем. Дерхэм сам тщательно исследовал пять из галлеевых туманностей и только одну из них (в Антиное) отождествил со звездным скоплением и таким образом нашел в ней подобие Млечному Пути. По существу, это был первый шаг на пути к идее островной Вселенной, хотя, по-видимому, неосознанный самим Дерхэмом, поскольку природу большинства туманностей он истолковал совершенно ложно. Среди остальных туманностей Галлея Дерхэм впервые подметил отступление от сферической формы, указав, что между ними нет существенных различий, «только одни кругловатые, а другие более овальной формы». (Кстати, именно овальность, сплюснутость формы некоторых туманностей подсказала Мопертюи идею их вращения.) Но все они, продолжал Дерхэм» «без каких бы то ни было неподвижных звезд», которые могли бы быть причиной их свечения. Совершенно новым было заключение Дерхэма, что звезды, видимые в туманности Ориона, в действительности расположены много ближе к нам. (До него Галлей, напротив, полагал, что они просвечивают сквозь туманность.) Именно эти несколько звезд в туманности Ориона, явно недостаточные для того, чтобы вызвать равномерное свечение всей туманности, привели Дерхэма к правильному выводу, что «расстояние туманности должно быть больше, чем расстояние неподвижных звезд». Это побудило его детальнее исследовать туманность и заключить о подобных туманных пятнах, что «они, казалось, были так же далеко расположены позади неподвижных звезд, как любая из этих звезд далека от Земли». Этот вывод Дерхэма был особенно важным для формирования представлений о колоссальных масштабах Вселенной: ведь расстояния до звезд все еще оставались недоступными для прямых триангуляционных (по годичным параллаксам) измерений и оказывались чудовищно громадными по первым их фотометрическим оценкам (Гюйгенса). Вывод о колоссальных расстояниях туманностей привел Дорхэма (как и Галлея) к заключению о больших размерах самих «туманных звезд». Поэтому Дерхэм исключил возможность их существования как отдельных тел (что даже много позже допускал П. Мопертюи). В поисках иного объяснения природы туманностей Дерхэм пришел к своей известной и странной идее о том, что это, быть может, разрывы в небесной сфере (!). Правда, этот вывод Дерхэма был сделан в форме осторожного вопроса: «Не являются ли эти туманности особыми пространствами света, или, скорее, не могут ли они быть, по всей вероятности, расселинами или отверстиями в огромные регионы света позади звезд?». Так или иначе, Дерхэм вслед за Галлеем и еще более настойчиво поставил перед астрономами проблему туманностей как новой типичной детали Вселенной. В. Дерхэму принадлежат также два любопытных сочинения, изданных отдельными книжками в Лондоне и на первый взгляд имевших теологическое содержание. Это его «Физико-теология, или демонстрация бытия и атрибутов Бога через его работы по творению» (1713 г.) и «Астро-теология, или демонстрация бытия и атрибутов Бога через обзор неба» (1714 г.). Работы эти, к сожалению, малодоступны современному читателю. Но, без сомнения, обе, особенно вторая, должны были быть посвящены проблеме «мировой гармонии» — закономерностям мира в целом, его упорядоченности, иначе — космологии. Анализ подобных общих проблем, конечно, проводился в ту эпоху на ортодоксальной религиозной основе, являвшейся неизбежным и существенным элементом общефилософской картины мира.

Наличие коренных закономерностей природы отождествлялось с проявлением наивысшей упорядочивающей силы — сверхчеловеческого Разума, т. е. бога. В наши дни мы назвали бы эти проблемы проблемами космологии и философскими проблемами естествознания. Таким образом, Вильям Дерхэм может быть причислен к ученым (особенно в астрономии), стремившимся проникнуть в коренные проблемы мироздания и общей картины мира и внесшим в эту картину новые черты. Известный французский физик, математик и астроном Пьер Луи Моро де Мопертюи (1698—1759) одним из первых откликнулся на призыв Дерхэма. В сочинении 1742 г. «Рассуждение о фигуре [форме] звезд» он рассмотрел проблему маленьких светлых пятен на небе, или туманных звезд, использовав новые списки таких объектов Гевелия и Галлея (явно по статье Дерхэма 1733 г.). Как писал позднее Кант об этом сочинении Мопертюи, именно оно обратило его внимание на «звездные туманности... которые имеют форму более или менее открытых эллипсов» и что сам Мопертюи «считает их большими светящимися массами, которые сплющились от чрезвычайно сильного вращения». Этот второй вывод (в отличие от первого — туманности как единичные плотные тела) был правильным и оказал сильное влияние на Канта при разработке им своей космологической концепции. Считая их одиночными, Мопертюи понимал, что сочетание в них заметных угловых размеров (тогда как звезды всегда выглядели точками) и слабость общего их свечения делало их совершенно необычными — либо чудовищно далекими и тогда невероятно громадными, либо же близкими и невероятно слабыми по истинному свечению. Мопертюи считал, что только определение их действительных расстояний может решить проблему. Любопытно, что у Мопертюи (одновременно с выходом известного космологического сочинения Т. Райта, где излагалась его концепция островных вселенных) вышла работа «Очерк космологии», которая, как представляется, не может не заинтересовать современных историков космологии. Фактологический вклад в проблему туманностей был сделан во второй половине XVIII в. двумя французскими астрономами — Николя Лакайлем (1713—1762), который добавил в их список 52 туманности южного неба, и Шарлем Мессье (1730—1817). Последний опубликовал в 1771 г. и затем в 1783—1784 гг. вторым изданием большой список из 103 туманностей, хотя лишь со вспомогательной целью (чтобы не путать с ними новые кометы, известным и удачливым «ловцом» которых он был.
Главная страница раздела
Авторство, публикация:
- Подготовка и выпуск проект 'Астрогалактика' 10.03.2006
|

