История астрономии. Небесные гости и единство Вселенной

На рубеже XVIII—XIX вв. на стыке астрономии, геологии и минералогии возникла новая ветвь науки о Космосе — метеоритика. Это привело к существенному изменению астрономической картины мира и было связано с именем немецкого физика Эрнеста Флоренса Фридриха Хладни (1756—1827). В конце XVIII в. всевозможные кратковременные световые эффекты, наблюдавшиеся в атмосфере: «огненные шары» — болиды, падающие, звезды (метеоры), вместе с молнией (обычной и шаровой), блуждающими огоньками, огнями Святого Эльма, полярными сияниями и т. п. объединялись в один класс явлений— «огненные метеоры», т. е. считались чисто атмосферными феноменами. Их объясняли возгоранием или электрическим свечением частиц, находящихся в атмосфере, либо поднятых туда с земли испарений. Наиболее впечатляющими и загадочными были «огненные шары», внезапно пролетавшие по небу, оставляя длинный дымный хвост, разбрасывая искры и нередко взрывавшиеся с оглушающим грохотом в конце пути, прежде чем исчезнуть. Отдельные астрономы высказывали догадки о космической природе болидов, считая их небольшими близко проходящими кометами (Д. Валлис, Я. Гевелий). Оригинальную гипотезу о болидах как сгустках космического вещества, встречающихся на пути Земли, высказал в 1714 г. Э. Галлей. (Однако уже к 1719 г. он склонился к мысли о земной природе болидов: в Космосе, как думали, неоткуда было взяться такому веществу.) Трудность объяснения болидов состояла действительно в сложной природе явления: в известном смысле оно — атмосферное, так как возникает лишь при движении сквозь земную атмосферу быстро летящего тела и нагревании его от трения о воздух. Измеренные во второй половине XVIII в. огромные скорости (до десятков км/с) и высоты (до сотни км) слишком большие для горения земных веществ, делали явление болидов еще более загадочным. Вплоть до последней четверти XVIII в. не меньшей загадкой оставалось и случавшееся иногда выпадение «из воздуха», «с неба», твердых и обычно горячих каменных или железных масс, причем это порою происходило вслед за угасанием болида. Определить истинную природу подобных «воздушных камней», или аэролитов, было еще труднее, поскольку на первый взгляд их можно было объяснить земными причинами: далеким ураганом, или извержением вулкана, или, сгущением частиц, рассеянных в самой атмосфере (по аналогии с градом).
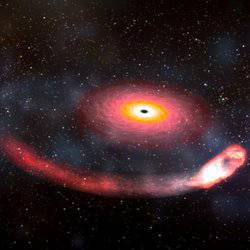
Идея космического, небесного происхождения аэролитов была столь же древней (и столь же малообоснованной), как и предположение об их земном пли атмосферном происхождении. Но поскольку церковь и простое суеверие не преминули истолковать космическую идею в религиозном и мистическом смысле, то для естествоиспытателей XVIII в. сама их реальность представлялась по меньшей мере сомнительной. К тому же с утверждением классической гравитационной ньютоновской картины мира, согласно которой все движения и местоположения тел в Космосе строго упорядочены законом всемирного тяготения, укрепилось и не вполне соответствовавшее идеям Ньютона представление, что между известными небесными телами нет ничего, кроме пустого мирового пространства, пронизанного лишь невесомым эфиром — носителем света. Поэтому падение твердых и порою огромных масс с неба на землю казалось противным логике и разуму. В беседах с известным физиком и философом Г. К. Лихтенбергом в 1792 г. Хладни обратил его внимание на несовместимость главных особенностей болида при атмосферно-электрическом его объяснении. Компактная форма, явное горение чего-то плотного с испусканием света и картина бурного дробления, разрушения болида противоречили огромной высоте их возгорания (к тому же обычно случавшегося при ясном небе). В крайне разреженных слоях атмосферы, где наблюдались болиды, электрическое свечение воздуха скорее напоминало бы северное сияние. Под влиянием этих соображений Лихтенберг высказал идею о вероятной космической природе болидов и советовал ее проверить. Хладни собрал и изучил многочисленные печатные, рукописные и устные свидетельства о загадочных «огненных шарах», причем нередко в них говорилось и о падении горячих камней после угасания болида. Разделенные веками записи поражали своим сходством. Идея реальности и единства причины обоих явлений четко выступила перед Хладни — юристом как результат анализа большого исторического материала. В решении Хладни последнего вопроса — о космическом источнике болидов и аэролитов — проявилось немалое влияние космолого-космогонических концепций его великого современника В. Гершеля — его идеи «остаточного» строительного материала в космическом пространстве между крупными телами или пополнения космического пространства таким материалом в результате катастрофических взрывов переуплотненных старых звездных скоплений. Концепция Гершеля подсказывала определенный возможный космический источник аэролитов и болидов: небольшие плотные массы, которые время от времени встречаются на пути Земли, врезаются в ее атмосферу с огромными скоростями и вызывают явление болида. Иногда их несгоревшие оплавленные остатки достигают поверхности Земли в виде метеоритов. Однако аэролиты, даже когда падение их откуда-то сверху было достоверным фактом, оказывались слишком похожими на обычные земные камни, обожженные молнией, чтобы сделать выбор в пользу их космической природы. Недостающие аргументы Хладни получил, когда неожиданно столкнулся в литературе с новым фактом, который и стал наиболее оригинальным и впечатляющим доводом в пользу его идеи космического происхождения аэролитов и болидов. Этим фактом стала необычная загадочная 700-килограммовая масса железа из Сибири (найденная впервые в 1749 г. и повторно обнаруженная в 1771 г. экспедицией П. С. Палласа). В течение двух десятков лет сибирская находка оставалась загадкой, ввиду необычной структуры и состава глыбы. Никакими известными процессами в минералогии, химии, металлургии не удавалось объяснить ее, казалось, несовместимые друг с другом свойства: чистейшее ковкое состояние железа, не допускавшее мысли о высокотемпературной переплавке, и стеклообразное состояние включений, как бы вышедших из огненного горна природы. Последнее, как и вся пористая структура железной губки в сибирской глыбе, наводили многих (например, известного шведского химика Т. Бергмана) на мысли о плавлении и «кипении» этой массы, прежде чем она застыла. С другой стороны, ограненность некоторых минеральных зерен в ней, их непреодолимая для лабораторий XVIII в. тугоплавкость подсказывали противоположное — мнение о кристаллизации их холодным образом, из некоторого раствора...

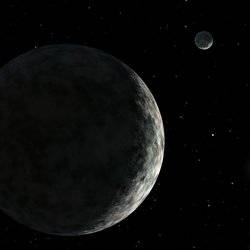
К 90-м годам XVIII в. закрепилось представление об «огненном» происхождении сибирской находки в результате расплавления руды молнией. Эта идея не вызывала особенного отклика, пока она существовала изолированно, среди других столь же мало обоснованных умозаключений конкретно о данной массе. Но она предстала в совершенно ином свете после того, как венский минералог А. Штютц попытался объединить официально зафиксированный случай падения (после наблюдавшегося болида) двух оплавленных железных масс (в Грашине, Хорватия) и сибирскую находку, так как они показались ему сходными по некоторым внешним признакам. Но при этом Штютц стремился лишь доказать, по аналогии с сибирским железом, земное происхождение, от удара молнии, и железа из Грашины (старое название — Аграм). А поскольку Хладни уже был убежден в космической природе болидов, то и всю совокупность явлений, впервые увязанных в единую систему Штютцем, объяснил со своей новой точки зрения, объявив, напротив, саму сибирскую массу — упавшим с неба аэролитом. Концепция Хладни о космической природе болидов и аэролитов, а также странных находок изолированных блоков железа, подобных сибирскому (получившему название «Палласово Железо»), была изложена им в сочинении «О происхождении найденной Палласом и других подобных ей масс и о некоторых связанных с ними явлениях природы» (1794 г.). Встреченная вначале враждебно многими учеными (в том числе и Лихтенбергом), теория Хладни вызвала в первые годы XIX в. бурные дискуссии и привлекла к феномену внимание крупных физиков, химиков, астрономов (в том числе Лапласа, Ольберса и др.). Опубликованные в те же годы идеи продолжающегося действия лунного вулканизма (Эпинус, Лихтенберг) и некоторые наблюдения Гершеля, которые, казалось, подтверждали это, вызвали к жизни теорию лунного источника метеоритов (Ольберс, 1795 г., Лаплас, 1802 г.). Новым стимулом для развития концепции космической природы метеоритов стало открытие в 1801—1804 гг. первых астероидов — малых планет между орбитами Марса и Юпитера (Пиацци, Ольберс), особенно вывод Ольберса о возможном происхождении их в результате разрыва большой планеты. Открытие физических и минералогических признаков метеоритного вещества (Ч. Говард, Ж. де Бурнон, 1802; В. Томсон, 1804; А. Ф. Видманштеттен, 1812) убеждало в реальности нового объекта. В результате уже к середине первого десятилетия XIX в. новый метеорно-метеоритный, а вернее, «болидно-метеоритный» феномен занял прочное место в естествознании, хотя источник его оставался еще далеко не ясным. К концу 30-х годов XIX в., после открытия (Д. Олмстэд, США) космической природы ноябрьского звездного дождя и объяснения его как метеорного потока (Д. Ф. Араго и Ольберс) теория Хладни получила неопровержимое подтверждение и внесла, таким образом, существенное изменение в астрономическую картину мира. В статьях 1803—1819 гг. Хладни развил свою концепцию космического происхождения метеоритов как остаточного строительного материала планетных систем, сохранившегося в межпланетном и межзвездном пространстве, допуская также связь метеоритов с кометами. (По современным представлениям, источником метеоритов разных типов являются, в основном, астероиды и, возможно, отчасти кометы, а метеоров — кометы.) По мере укрепления концепции Хладни, Ольберса, Араго о метеорном веществе как существенном элементе Солнечной системы, вместо картины изолированных, связанных друг с другом лишь тяготением небесных тел, космическое,— по меньшей мере межпланетное — пространство представало заполненным мелкораздробленным веществом, возможно, более древним, чем вся наша Солнечная система. Куски и частицы этого вещества (метеорные тела) время от времени сталкиваются как друг с другом, дробясь и изменяясь, так и с Землей. Достигая ее поверхности, они приносят информацию об условиях существования и о природе космического вещества, об истории возникновения и эволюции, по меньшей мере, нашей планетной системы, а в целом — о вещественном единстве окружающей нас наблюдаемой Вселенной. Это революционное изменение представлений о вещественном аспекте астрономической картины мира произошло за десятилетия до открытия и применения в астрономии другого мощного метода изучения данного аспекта Вселенной — спектрального анализа.
Главная страница раздела
Авторство, публикация:
- Подготовка и выпуск проект 'Астрогалактика' 22.03.2006
|

